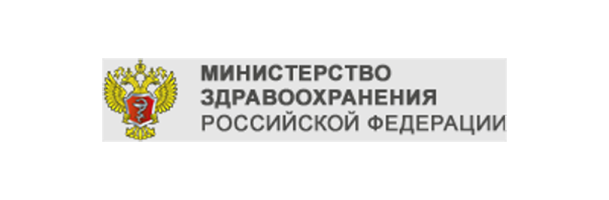24 апреля 2024
Вы здесь
Звавший к безумию
100 лет назад умер выдающийся русский композитор Александр Скрябин
Музыка Александра Скрябина стала тем промежуточным звеном, которое расположилось между романтикой символизма и тревожными ожиданиями экспрессионизма. «Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений», - писал Борис Пастернак, вспоминая 1903 г., когда он стал свидетелем написания Третьей симфонии - «Божественной поэмы».
В стилистике Бальмонта
Мысль любого композитора доходит до нас благодаря его музыке, которую мы весьма часто интерпретируем более или менее произвольно. Но помимо музыкальных произведений, нам нередко остаются и другие артефакты, созданные мастером, например, его письма. Буквы, складывающиеся в слова и мысли, могут либо подтвердить, либо опровергнуть то впечатление, которое генерирует музыка. Ранние письма Скрябина обнаруживают его выраженную символико-романтическую выспренность: «Зеркальная поверхность воды отражала в себе небесный свод, а на одной половине горизонта не было заметно, где этот свод кончается и где начинается воображение. Казалось, что мы находились в центре громадного голубого шара, и эта спокойная бледная голубая даль раскрывала свои объятия мысли, уносившейся в бесконечность на лучах брошенного взгляда… так иногда зарождается мечта, и розовый луч надежды ласкает ее, но восстает зло и рассеивает ее в необъятном мире жизни». Это - стилистика Бальмонта (на него Скрябин был похож даже внешне), в которой тоже воспевались «звезды далекие» и раскрывались «объятия мысли»; но потом эта мысль почти незаметно улетучивалась, оставляя читателя наедине с бурной субъективной эмоцией, часто выражаемой с чрезмерным пафосом, причем звезды как-то незаметно уходили на второй план, оставляя на первом – одного только чтеца-мелодекламатора - автора-бенефицианта, любующегося игрой собственного голоса, аллитерациями, метафорами и ассонансами:
…Туда, где холодные волны
Еще нерожденных ключей
Бледнеют, кристально безмолвны,
И грезят о чарах лучей, -
Где белые призраки дремлют,
Где Время сдержало полет,
И ветру звенящему внемлют
Лишь звезды, да тучи, да лед…
Скрябин писал и стихотворные либретто, которые обнаруживают ту же бальмонтовскую манеру, отличную от скрябинских виршей только сугубо поэтическим мастерством.
Неудавшийся пианист
В молодости Скрябин был подающим большие надежды пианистом и собирался связать свою жизнь с карьерой концертирующего музыканта, но его маленькая кисть ставила перед ним очень непростые технические задачи. В неустанных попытках их решения музыкант занимался сутками напролет; и это привело к тому, что в 1888 г. он переиграл руку, репетируя сложные в техническом отношении пьесы, требующие помимо техники еще и исключительной силы звучания. Помощь докторов и заботы многолетнего скрябинского мецената М.Беляева вначале помогли преодолеть последствия этой травмы. Восстановив работоспособность руки, композитор с женой уехал за границу, где зарабатывал на жизнь, исполняя преимущественно собственные сочинения. Но в 1892 г. состояние правой руки снова ухудшилось, что сопровождалось у Скрябина обилием «черных мыслей», тревогой, «душевным разладом». К этим печалям добавлялись и другие. Известный музыкальный критик Н.Финдензейн писал о его исполнительской манере: «Как исполнитель г-н Скрябин стоит ниже среднего уровня. Его сухой слабый тон, жесткий деревянный удар, постная, механическая, лишенная почти всякой нюансировки игра…Фортепиано вязло в оркестре, как в болоте…» Это мнение представляется тем более объективным, что несколько позже Финдензейн стал одним из горячих приверженцев музыки Скрябина-композитора. Но пианистическая карьера музыканта выглядела все более проблематичной. В течение некоторого времени он вообще не выступал. И едва ли не единственным автором, чьи произведения он мог теперь исполнять с блеском, был сам Скрябин. Его опусы стали тем полем исполнительской деятельности, которое оказалось ему вполне доступным. Композитор сочинял такую музыку, для которой его персональная техника не была препятствием. Действительно, какие претензии могут быть к исполнителю собственных текстов: кому и лучше знать – как именно играть то или иное произведение, если не его автору!
Но музыка Скрябина была лишь небольшим сектором мирового музыкального пространства, за пределами которого простирались иные миры, малодоступные отныне этому музыканту. И его произведения – в сравнении с ними – могли выглядеть авангардными, новаторскими, ультрасовременными и пр., но они не обладали тем, что было в творениях мастеров, которых Скрябин хотел бы исполнять как пианист, но – не мог.
Создается впечатление, что Скрябин и сам ощущал некоторую несамодостаточность своей музыки. Возможно, именно это привело его к тому, что композитор начал сооружать подпорки к музыкальной ткани своих произведений – в виде огромных оркестровых составов, для которых предназначались его творения («Божественная поэма» была написана для четверного состава оркестра, дополненного еще и деревянными духовыми – сверх учетверенного плана: словно огромный ансамбль должен был компенсировать «сухой слабый тон» его рояля), цветомузыки (в партитуре симфонической поэмы «Прометей» была специальная нотная строчка, помеченная словом «свет»: для несуществующего инструмента – «световой клавиатуры», каждая клавиша которого должна была быть соединена с источником света определенного цвета) и эклектичной мистической философии, которая тоже не стала законченной, оставшись в несведенных воедино, часто компилятивных отрывках, фрагментах, намеках. На чрезмерную и вычурную грандиозность построений композитора обращали внимание и некоторые современники, советовавшие Скрябину обуздать его синтетические эксперименты: «…что же ожидает такое сочинение, которое не может начаться без вокальной помощи?» Возможно, композитору помешала завершить целостную концепцию его ранняя смерть, но, скорее всего, он и при более благоприятном исходе не достроил бы это масштабное сооружение, заставляющее вспомнить размах Р. Вагнера.
Феномен соскальзывания
Главное сочинение композитора должно было носить название «Мистерия». Скрябин считал, что этим произведением «будет завершен нынешний цикл существования мира», а «Мировой Дух соединится с косной Материей» (синтетическое творчество предопределило синтетическую концепцию, а идеологическая незавершенность вылилась в неоконченный труд) в некоем «космическом эротическом акте», что символически «уничтожит нынешнюю Вселенную», расчистив место для сотворения мира нового. Сугубо музыкальное новаторство композитора, которое особенно ярко проявилось в 1903–1909 гг., сам Скрябин считал второстепенным, призванным для служения основной – космической - цели. С этой точки зрения, его главные произведения — «Поэма Экстаза» и «Прометей» — не что иное, как предисловие («Предварительное Действо») или описание средствами музыкального языка, того как именно все будет происходить во время свершения «Мистерии» при соединении Мирового Духа и Материи.
Все эти инфернальные построения поражают своим масштабом, грандиозностью и… нелепостью. Они выглядят почти так же, как конструкции парафренического бреда величия. Мегаломаническим идеям Скрябина современники, успевшие попривыкнуть ко многим странным вещам, случавшимся в искусстве в эту пеструю эпоху, дивились регулярно; и мысль о психическом расстройстве композитора неоднократно всплывает в мемуарах о нем. Многие из очевидцев отмечают эмоциональную эйфоричность Скрябина, «имеющую слегка патологический оттенок», истероформность его поведения, инфантилизм суждений, немотивированные смены настроения, мнительность и ипохондричность, парадоксальность его взглядов, доходившую до амбивалентности, нараставший год от года аутизм. На этом полиморфном фоне периодически вспыхивали идеи о собственной обреченности и – в то же время – великом предназначении и всемирной роли, которую композитор должен сыграть в истории планеты.
«Мистериальный замысел Скрябина есть безумие», - прямо говорил муж сестры композитора, музыковед и философ Б.Шлёцер, подчеркивая чувство «ужаса», возникавшее у него по мере попыток постижения этого замысла. Музыковед и композитор Л.Сабанеев, почти по-психиатрически отмечая логические скачки в мышлении Скрябина, по существу, фиксирует у него такой феномен, как соскальзывание. И это говорили люди, хорошо знавшие композитора, любившие его самого, высоко ценившие его музыку и регулярно с ним общавшиеся. Менее близкие Скрябину люди замечают без обиняков: «некоторые считали его сумасшедшим» (жена Н.Римского-Корсакова). «Появление новых замыслов сопровождалось у него обычно острым нервным возбуждением… он ни с кем не говорил, и когда его о чем-нибудь спрашивали, даже сразу не мог ответить. В такие дни он мог оставаться один и по ночам доходил до галлюцинаций…» «Для него самое слово «безумие» было не ужасным, а едва ли не желательным. Он откровенно звал к безумию, к сгоранию в каком-то огне…»
В скрябинской сонате «К пламени» регулярно повторяется навязчиво-настырный музыкальный прием - постоянный рефрен одной и той же мелодико-ритмической конструкции из двух нот, от которой автору не удается отделаться вплоть до самого финала. Эта пара нот, многократно вспыхивающая по ходу исполнения пьесы, выглядит как неврозоподобный навязчивый ритуал, демаскируя еще одну психическую особенность композитора – обсессивный синдром, проявлявшийся у него мизофобией – боязнью загрязнения, из-за чего Скрябин не брал в руки денег, с пристрастием мыл руки, часто не снимал перчаток, иногда даже в тех случаях, когда играл на рояле (в последнее, впрочем, верится с трудом). Комплекс особенностей композитора, могущих быть интерпретированными, как патологические симптомы, широк и разнообразен.
Тем не менее, именно Скрябин почувствовал нечто близящееся. Он обонял «Дух времени», но не различал его деталей, которые, впрочем, казались ему несущественными на фоне столь глобальных изменений и грядущих событий. Как и поэт-символист В.Брюсов, сказавший «…вас, кто меня уничтожит, Встречаю приветственным гимном», Скрябин рукоплескал своими учетверенными оркестрами тому, чего толком не разумел. В то время, как подступившая вплотную реальность была грозна и деструктивна, композитор пел ей Осанну, восхищаясь ее грандиозности, ее новизне, легко бросая под ее копыта мир современной ему культуры. Стремление Скрябина уловить ветер перемен увенчалось успехом, но – лишь отчасти. Он заметил, что ветер уже подул, но не понял – куда и зачем. Композитор был тем буревестником, который почувствовал Февральскую, а не Октябрьскую революцию, сумбур Керенского, а не методичность Ленина-Сталина, утопию российского парламента, а не антиутопию Чевенгура.
На границе территории психопатологии
Композитор Н.Мясковский, в творчестве которого влияние Скрябина хорошо заметно, писал: «Скрябин прежде всего не завершитель, а гениальный искатель новых путей и хотя исходит по миросозерцанию из того же, но более окрыленного оптимизма, что и Бетховен, но при помощи совершенно нового языка он открывает пред нами такие необычайные, еще не могущие даже быть осознанными эмоциональные перспективы, такие высоты духовного просветления, что вырастает в наших глазах до явления всемирной значительности». И эта цитата последователя Скрябина верифицирует системную незаконченность и принципиальную вторичность интеллектуального аспекта в творчестве композитора.
Знаменательно то, что Скрябин в своем творчестве сам отводил собственной музыке второстепенную роль, полагая своим главным достижением космическую идею единения Мирового Духа и Материи, относясь к своей музыке – лишь как к аккомпанементу этой Вселенской Мистерии. То, что Скрябин бессознательно сам ощущал уязвимость своей музыки, соорудив вокруг нее массивный опорный каркас, косвенным образом подтверждает его апломб, который был присущ композитору с молодости (впрочем, для этого были некоторые основания, хотя бы – малая золотая медаль, присужденная ему после окончании Московской косерватории).
Римский-Корсаков даже называл его «изломанным, рисующимся и самомнящим», что не помешало мэтру позже сфотографироваться у рояля, на пюпитре которого стояла партитура скрябинской симфонии. Но хорошо известно, что именно вызывающее поведение человека часто скрывает его внутреннюю неуверенность, которую обладатель оной маскирует таким образом не только от окружающих, но и от самого себя. Может быть, оттого скрябинская музыка требовала от автора легитимации самоутверждения при помощи подручных средств, лежащих в других сферах творчества и досказывающих то, что ему не удалось произнести на языке нот.
Скрябин хотел бы брать чужие ноты, но вынужден был писать свои. Он рассчитывал высказываться как пианист, но попытки исполнения чужой музыки в соответствии с указаниями ее авторов приводили к тому, что он либо в очередной раз переигрывал руку, либо просто не мог эталонно исполнять эти произведения, играя «нечисто» (не оттого ли мизофобия и пресловутые перчатки?), чаще, чем хотелось промазывая мимо нот и не будучи в состоянии адекватно интерпретировать чужой текст. Исполнительские особенности Скрябина становились преградой между чужой музыкальной идеей и ее реализацией. Композитор сочинял музыку, которая не убеждала его самого, но ему больше ничего не оставалось, кроме как говорить самостоятельно, попутно уверяя самого себя в особой значимости и величии своего музыкального текста. Двигаясь этим путем, Скрябин забрел на территорию, сопредельную с психопатологией, а, может быть, и перешагнул эту грань.
Но композитор оказался шире любых границ – между стилями, эпохами, жанрами, философиями, продемонстрировав относительность и условность любых подобных демаркаций для подлинного таланта, который всегда шире заданных рамок, эстетических программ и идеологических концепций. Гений сам устанавливает правила, благодаря чему перешагивает не только эти грани, но и годы. Когда параферналия парафренического антуража отвалилась, стало понятно, что Скрябин – не пианист, вынужденно сочинявший для себя репертуар, а выдающийся композитор, сумевший сказать несколько ярких слов на вечном языке музыки.
Игорь ЯКУШЕВ,
доцент Северного государственного медицинского университета
Архангельск
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Издательский отдел: +7 (495) 608-85-44 Реклама: +7 (495) 608-85-44,
E-mail: mg-podpiska@mail.ru Е-mail rekmedic@mgzt.ru
Отдел информации Справки: 8 (495) 608-86-95
E-mail: inform@mgzt.ru E-mail: mggazeta@mgzt.ru