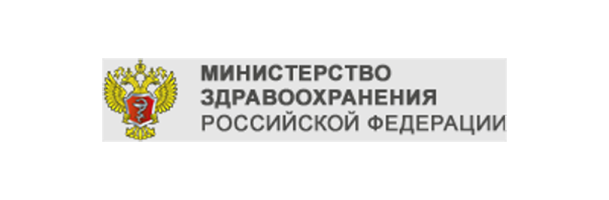23 апреля 2024
Вы здесь
Кров и кровь
Ряд психопатологических феноменов дошли из древности до нашего времени в почти неизменном виде
В XIX веке немецкий философ-идеалист И.Г. Фихте, задумавшись об отношении человеческого сознания к окружающей действительности - объективной реальности, предложил концепт диады «Я» - «не-Я», описывающий эволюцию и суть развития связей между этими элементами. На 1-й стадии субъект осознает свою самотождественность: Я = Я. На 2-й – «Я» порождает свое отрицание - «не-Я», выступая как субъект (познающее сознание); тогда как «не-Я» начинает играть роль объекта (предмета познания). На 3-й стадии происходит синтез: «Я» осознает себя тем, что не относится к «не-Я» и даже противоположно ему. Формируется человеческое эмпирическое «Я», познающее территорию и объекты «не-Я» путем ощущений и рассуждений.
«Я» против «не-Я»
Философская модель Фихте обозначала место человека в окружающем мире, охарактеризовав внешнюю среду, как – в принципе – чуждое для субъекта пространство. По сути, немецкий философ подчеркнул отчуждение человека от природы и от любого другого субъекта, раздвоив, поляризовав целостный Космос библейского мироздания и религиозного мышления – на две ипостаси, одна из которых была для субъекта «социально близкой», вторая – совершенно посторонней. Лигатура религии (religare – воссоединяю) расщепилась на два волокна, став менее прочной.
Первобытные люди столкнулись с этой философской идеей задолго до Фихте. В процессе эволюции, на этапе становления и начального развития Homo sapiens, качественно изменилась система, обеспечившая адаптивное поведение этого вида. Человек почувствовал (еще не понял: вторая сигнальная система пока не развилась), что отличается от окружающего его мира; нависающего над ним, таящего угрозы в каждом своем событии и явлении. Природа была враждебной и опасной. С ней было необходимо бороться за каждый день прожитой жизни. Любой шаг, сделанный по планете, был авантюрой, могущей окончиться фатально. В мистической темноте скрывались вполне реальные пещерные медведи и львы; смена времен года сулила зимнюю стужу и весенний голод…
Необъяснимые грохот грома и блеск молнии казались не менее ужасными и враждебными событиями, направленными на причинение вреда человечку, кутающемуся в шкурки и дрожащему от холода и страха. Природа таила в себе угрозы и подвохи. Человек ощутил себя слабым и беззащитным; его – только начавшее формироваться «Я» - окружал огромный и страшный мир «не-Я», готовый внедриться в бытие пещерного обитателя - войти, ворваться, вторгнуться в пещеру, в которой тот только что укрылся - схватить, вгрызться, сожрать. Любые ощущения, возникавшие в организме человека могли быть предвестником опасности и смерти – холод, запах, звук, прикосновение.
Эта эпоха генерировала ряд психопатологических феноменов, дошедших до нашего времени в почти неизменном виде. Вторая сигнальная система еще не оснастила их сложными ментальными конструкциями, и относительный примитивизм их содержания остался почти без изменений: цивилизация так и не раскрасила эти феномены в культуральные и этнические цвета.
Психиатрии известен симптомокомплекс, именуемый «феномен воплощенного присутствия», получивший в немецкоязычной медицине дефиницию «Das Anwesenkeit» (К. Ясперс, 1923). Для него характерно ощущение присутствия постороннего существа в непосредственной близости от субъекта. Это состояние возникает при непомраченном сознании, сочетающимся с одиночеством пациента в замкнутом пространстве (реже – на открытой местности). Симптом отличается от истинных галлюцинаций – отсутствием чувственной составляющей, а от бреда – отсутствием непреложной уверенности человека в своей правоте, что заставляет его искать подтверждение своим ощущениям.
Некоторые исследователи считают феномен воплощенного присутствия «оживлением архаической психопатологии», «психиатрическим атавизмом», ибо в этом случае патология первой сигнальной системы превалирует над второй - филогенетически недоразвитой. Симптоматика трактуется как нарушение границ ареала обитания субъекта (собственно, симптоматика воплощенного присутствия), в которые внедряется нечто постороннее и опасное. Феномен воплощенного присутствия часто связан с галлюцинаторными элементами, которые иногда называют «галлюциноидами». Их характеризует ирреальность, незавершенность, нечеткость: неуловимые тени, туманные абрисы, размытые силуэты, исчезающие при попытке вглядеться в них пристально.
«Феномен воплощенного присутствия» клинически точно и подробно описан в рассказе Г. де Мопассана «Орля». Герою повествования кажется, что его кто-то преследует, «крадется след в след так близко, что вот-вот коснется…»; «…какая-то посторонняя сила наваливается на меня, останавливает, загораживает дорогу, велит повернуть назад». Архаичные мозговые механизмы персонажа оживляются перед дебютом развернутых психопатологических картин галлюцинаторно-параноидной, парафренной и аффективно-бредовой структуры (что происходит в дальнейшем). Герой рассказа начинает проделывать опыты, ставя на стол продукты и ожидая – что с ними случится, исчезнут они или нет: «Хочу понять, действительно ли я сумасшедший». У него начинаются галлюциноиды: «…я перемахнул через всю комнату с единственным желанием схватить его, задушить, убить!.. Но тут кресло опрокинулось, точно кто-то успел отбежать в сторону… стол покачнулся, лампа упала и погасла, окно захлопнулось, как будто ночной вор, застигнутый врасплох, выскочил из него, обеими руками ухватившись за створки». Нередко галлюциноиды обретают сходство с экстракампинными галлюцинациями, так как возникают вне полей зрения субъекта или на их периферии: «…у меня появилось чувство, нет, уверенность, что он тут, рядом, что он читает через мое плечо, почти касаясь уха».
Ощущение присутствия посторонних неведомых сил в окружающем мире формировало у первобытных людей убежденность в одушевленности Природы, постепенно превращаясь в систему анимизма, населившего закоулки пространства злыми и добрыми духами. Английский этнограф и культуролог Э. Тайлор, считал анимизм первоначальной стадией развития религии.
Фобии и ритуалы
По мере усложнения анимизма возникла необходимость в появлении специалиста, который стал бы посредником между мирами – духов и человека. Так появился шаманизм. В том или ином виде он существовал у большинства народов планеты. Его принято считать древнейшей религией, хотя такая трактовка несколько условна: современные религии предполагают наличие единой мифологической базы, чего в шаманизме не было даже в пределах одного материка.
Камлание шаманов было непростой процедурой, и ее следовало соблюдать неукоснительно и тщательно. Причинами для камлания становились любые потребности древних людей: каждое их деяние должно было быть угодно духам, к которым следовало обращаться и в любом несчастье. Изменение или нарушение регламента шаманского действа в лучшем случае грозило неудачей предприятия, в худшем – сулило кары со стороны разгневанной Природы. Процедура превращалась в обязательный и неизменный ритуал, который по формальным признакам можно считать обсессивным, т.е., навязчивым. Эти ритуальные обсессии носили вторичный характер: они формировались вокруг навязчивостей первичных, которые возникали вокруг тревог и страхов человека – перед духами болезней, молнии, огня, наводнения и пр. Ритуалы имели защитный характер, снижая душевный дискомфорт. По времени исполнения они часто оказывались весьма продолжительными и имели сложную структуру.
Так или иначе, обсессивные феномены известны всем. Не все верят в приметы, но каждый знает об их существовании. Увидев черного кота, переходящего дорогу, человек не обязательно свернет с пути, но непременно вспомнит эту примету русского фэн-шуй. У каждого этноса есть огромное количество национальных примет и пословиц, говорящих о порче, сглазе и кознях нечистой силы. В Англии, например, плохой приметой считается пройти под прислоненной к стене дома лестницей; в России беду предвещают встреча со священником или черная кошка, переходящая дорогу… В каждой из культур существуют способы сакральной ритуальной «защиты» от подобных неприятностей: трижды постучать по дереву – чтобы не сглазить (модификация перкуссии шаманских барабанов, прогоняющих неудачу), сплюнуть (опять-таки трижды) через левое плечо – дабы не накликать… Число «три», вместе с защитным действием, становится оберегом и ритуалом, который следует осуществить, чтобы нарушить планы нечистой силы. Содержание ритуала вообще часто связано с числом: действие лишь тогда обретает защитный эффект, когда выполняется определенное количество раз («счастливые номера»); и причина этого, возможно, кроется в сакральности ритмов древних бубнов, в которые стучали колдуны племен.
Древность возникновения и религиозные истоки происхождения фобий и ритуалов, ставших частью национальных культур обозначают также приметы, пословицы, поговорки и считалки хотя фольклор – гораздо более поздняя, нежели шаманизм, стадия развития культуры. Кому не ведомо детское ритуальное заклинание «Чурики, я в домике!»? В славянских языках «чурами» («щурами») назывались предки рода. Во фразе «Чур меня!» временем съедено слово «защити». Произносивший сакральную формулу субъект, обращался с просьбой о протекции – к своим пращурам, восстанавливая непрерывность времен, связывая разорванную лигатуру преемственности и наследования культуры, реставрируя континуум бытия, времени и пространства, тем самым расширяя зону собственного «Я». Воссоздаваемая заклинанием-считалочкой, общность с предками оказывалась средством усиления человека, звавшего на помощь единокровных пращуров. Дом был местом спасения, защиты и покровительства, тоже становясь частью «Я». В нем можно было не опасаться враждебного мира «не-Я», который угрожающе нависал над человеком, суля всяческие неприятности. Например, здесь можно было укрыться от нападения зверей. Но внутри нельзя было находиться все время…
По мере развития второй сигнальной системы человека, в его психопатологическую клинику вошли бредовые конструкции. Вероятно, одной из первых патологических фабул стал бред одержимости, интерпретирующий окружающий мир, который долго оставался враждебным по отношению к человеку. Опасными были духи грозы, мороза, животных... Необходимость «покровительства» со стороны Природы привела к оформлению примитивной религиозно-социальной системы тотемизма: «патронат», осуществляемый каким-то метеорологическим явлением, растением или животным, превращал этих резидентов «не-Я» в предметы особого культа. Прежде чем войти на территорию «не-Я», следовало заручиться благоволением тотемных существ, которые могли быть племенными, родовыми и личными. Бред одержимости странно преломлялся мозгом больных людей, которые из-за страха перед хищниками начинали считать себя зверями (по существу – уподоблять себя духам Природы). Психика словно подсказывала им такой способ защиты: «превратившись» в волка, можно было «не опасаться» нападения волчьей стаи…
Грань между нормой и психопатологией
Сумасшедший считал себя хищником и вел себя соответственно, нападая на людей. Инверсивная форма психологической защиты – самоидентификация с источником страха и подражание ему – хорошо известна современным психологам. Человек с бредом одержимости, «становясь хищником», словно восклицал, обращаясь к тотему: «Мы с тобой одной крови!», что особенно показательным кажется в русском языке, в котором слова «кров» и «кровь» выглядят однокоренными словами, подчеркивая возможное (хотя и сомнительное) этимологическое родство. Слово «обескровленный» непросто понять вне контекста. Слово «единокровный» может означать не только кровное родство.
Если для исполнителя языческого религиозного ритуала кров (дом) и кровь рода (защита пращуров) объединялись обсессивным заклинанием «Чурики, я в домике!», усиливая этим его «Я» и увеличивая пространство его хронотопа; то бред одержимости уводил человека с территории «Я» в джунгли «не-Я». Но и в этих зарослях нужна была безопасность – и психотик взывал к тотему, интегрируясь с ним, по сути, объединяясь с «не-Я», становясь «не собой», обретая «защиту» ценой утраты собственной личности – персонального «Я».
В эпоху Средневековья бред одержимости получил название «ликантропии». Описания ликантропии встречаются в фольклоре этносов всего мира (Китай, Индия, Африка, Америка), причем, в зависимости от региона, человек мог «превратиться» в любого хищника, обитающего в конкретной местности – льва, крокодила, гиену и пр. Больной ликантропией и его действия описаны в книге Ш. де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле»: «…Бывали случаи, когда хлебопашец ранним утром выходивший работать в поле, обнаруживал волчьи следы, а затем его собака, разрывая лапами землю, откапывала мертвое тело с отпечатками волчьих зубов на затылке, за ухом, иногда на ноге, причем непременно сзади, с раздробленными шейными позвонками, с раздробленной костью на ноге». Отголоски ликантропии узнаются и в народных сказках: «Грянулся Иван-царевич оземь, обернулся серым волком…» и пр.
Обсессия и бред одержимости стали разными способами преодоления экзистенциального страха человека. В первом случае ритуал, имеющий религиозную подоплеку, усиливает персональное «Я», во втором – бред это «Я» разрушает, лишая человека, возомнившего себя божеством, здравомыслия.
Конечно, ритуалы бывают и у больных шизофренией, но в их случаях, обсессивные действия имеют хаотичный и непостоянный характер, не обладая сакральностью, освященной веками и традициями. Они выглядят, как попытка поиска пути назад, - в собственное «Я», как попытка вспомнить волшебное слово «сезам», но на ум несчастному приходят только «горох» и «ячмень»: он уже не в состоянии вспомнить верный пароль. Поистине «Если Бог хочет кого-то наказать, то Он лишает такого человека разума». И в данном случае понятно – чем именно вызвано наказание: уподоблением себя божеству (хоть и тотемическому).
Различие между психопатологическими и нормативными конструкциями не всегда очевидно вне культурно-исторического контекста. Поэзия скальдов зачастую выглядит, как клиническая шизофазия, - «словесная окрошка», соблюдающая грамматику речи, но скрывающая ее смысл. («Миниатюризация поездки в Таллинн – два последних раза, сюда, и как бы еще раз внутри, но по-нашему» - реальная цитата из текста, написанного психически больным). Стихосложение скальдов регулярно применяло прием «хейти», использовавший поэтические синонимы; в качестве которых могли привлекаться лексемы, связанные с исходным словом весьма поверхностно: вместо слова «море» могли прозвучать «волна», «пучина», «устье», ручей», «фьорд», даже «лужа» или названия конкретных водоемов и рек. Хейти допускал и применение омонимов по типу «кров» и «кровь». Поэтическая строка порой превращалась в многочленный ребус.
Для разгадки этого поэтического камлания была необходима культурная традиция, сформировавшая его правила, тянущая лигатуру из начала IX века и даже из более ранних времен, теряющихся в дымке пара горячих исландских гейзеров. Исландские саги тоже тянут нить издалека, неизменно начиная с представления действующих лиц и описания их родословной: «Жил человек по имени… Он был сыном… Женат он был на… Детей их звали…» Иногда повествование начинается за несколько поколений до рождения главных героев, восходя ко временам заселения Исландии. Затем оно переходит к самим событиям, тоже описываемым крайне подробно (вплоть до указания, кто кому нанес какую рану, и какое возмещение было за это выплачено). Часто дословно цитируются еще более древние тексты, напр., древнескандинавские законы. Хронология всегда четко выдержана: точно указывается, сколько лет миновало с момента какого-то события. Поэзия скальдов и саги расширяли территорию человеческого «Я», устанавливая связи, укрепляя права, фиксируя результаты. Они были тем самым заклинанием-считалочкой, зовущей на помощь пращуров. И предки приходили, становясь рядом с потомками, оберегая их «Я», которое становилось общим – родовым, единокровным.
Внешне выглядящий шизофреническим по форме текст содержит в себе культурный код, который может быть прочитан и понят. Психически больной, покинувший пространство «Я», не имеет такого ключа и пытается искать его, нанизывая слова друг на друга – бессистемно и почти бессмысленно, ибо тот эфемерный смысл, который был вложен им в этот месседж, ускользнет от самого безумца спустя краткий промежуток времени. И это – настоящая шизофазия, бессмысленная и беспощадная. Дверь больше не отворяется, и обратно не попасть.
Мнимая шизофазия скальдической поэзии сшита путеводной нитью лигатуры культуры и истории, которые подобно страховочному тросу, удерживают человека на той половине мира, которая относится к его «Я», к выстроенной им цивилизации. Это та соломинка, что может спасать от безумия.
Игорь ЯКУШЕВ,
доцент Северного государственного медицинского университета
Архангельск
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии

Издательский отдел: +7 (495) 608-85-44 Реклама: +7 (495) 608-85-44,
E-mail: mg-podpiska@mail.ru Е-mail rekmedic@mgzt.ru
Отдел информации Справки: 8 (495) 608-86-95
E-mail: inform@mgzt.ru E-mail: mggazeta@mgzt.ru